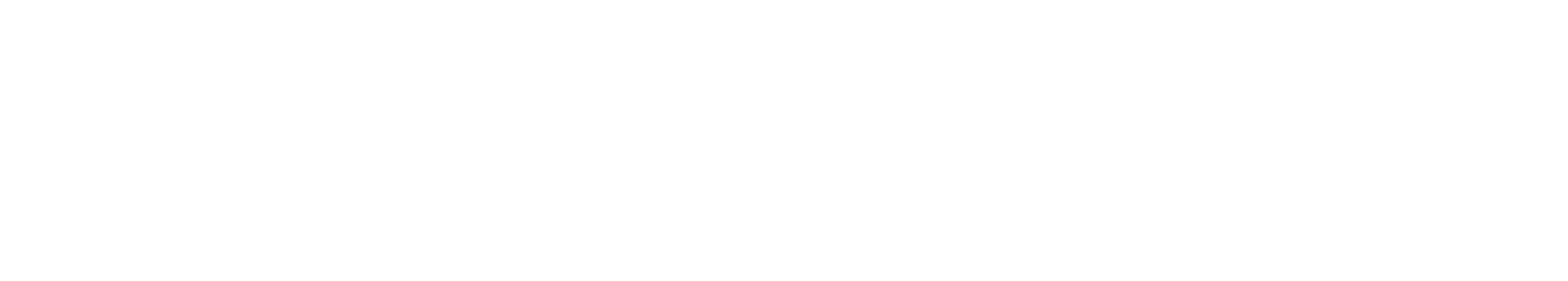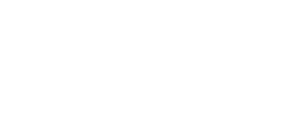
Символы Ясной Поляны
7 объектов — 7 символов
Часто самые привычные для нас вещи хранят в себе особый смысл. На первый взгляд, их значение и ценность не так очевидны, однако при детальном рассмотрении они раскрываются по-новому.
Еще при жизни Льва Толстого Ясная Поляна стала местом единения самых разных людей и идей — своеобразным символом культурной жизни своего времени. Софья Андреевна писала: «Было что-то неуловимое в атмосфере нашего дома, что любили почти все, и, конечно, центром нашей жизни была умственная и художественная жизнь Льва Николаевича, а фоном для нее — милая молодежь и моя любовь к людям, к общению с ними».
В проекте «Символы Ясной Поляны» собраны 7 объектов, отражающих особенности мировоззрения писателя, его отношения к семье и дому. Каждый из этих объектов наделен особым символическим значением.
Еще при жизни Льва Толстого Ясная Поляна стала местом единения самых разных людей и идей — своеобразным символом культурной жизни своего времени. Софья Андреевна писала: «Было что-то неуловимое в атмосфере нашего дома, что любили почти все, и, конечно, центром нашей жизни была умственная и художественная жизнь Льва Николаевича, а фоном для нее — милая молодежь и моя любовь к людям, к общению с ними».
В проекте «Символы Ясной Поляны» собраны 7 объектов, отражающих особенности мировоззрения писателя, его отношения к семье и дому. Каждый из этих объектов наделен особым символическим значением.
Часто самые привычные для нас вещи хранят в себе особый смысл. На первый взгляд, их значение и ценность не так очевидны, однако при детальном рассмотрении они раскрываются по-новому.
Еще при жизни Льва Толстого Ясная Поляна стала местом единения самых разных людей и идей — своеобразным символом культурной жизни своего времени. Софья Андреевна писала: «Было что-то неуловимое в атмосфере нашего дома, что любили почти все, и, конечно, центром нашей жизни была умственная и художественная жизнь Льва Николаевича, а фоном для нее — милая молодежь и моя любовь к людям, к общению с ними».
В проекте «Символы Ясной Поляны» собраны 7 объектов, отражающих особенности мировоззрения писателя, его отношения к семье и дому. Каждый из этих объектов наделен особым символическим значением.
Еще при жизни Льва Толстого Ясная Поляна стала местом единения самых разных людей и идей — своеобразным символом культурной жизни своего времени. Софья Андреевна писала: «Было что-то неуловимое в атмосфере нашего дома, что любили почти все, и, конечно, центром нашей жизни была умственная и художественная жизнь Льва Николаевича, а фоном для нее — милая молодежь и моя любовь к людям, к общению с ними».
В проекте «Символы Ясной Поляны» собраны 7 объектов, отражающих особенности мировоззрения писателя, его отношения к семье и дому. Каждый из этих объектов наделен особым символическим значением.
Лучше на большом экране!
Чтобы увидеть интерактивные элементы этого проекта, нужен экран с разрешением побольше
Чтобы увидеть интерактивные элементы этого проекта, нужен экран с разрешением побольше
Символ жизни
Дом, в котором Лев Толстой прожил более 50 лет
Символ жизни
Дом, в котором Лев Толстой прожил более 50 лет
В 1856 году Лев Толстой поселился в этом доме (бывшем флигеле).
Позже дом стал тесен для растущей семьи, и его неоднократно расширяли, добавляя пристройки.
Позже дом стал тесен для растущей семьи, и его неоднократно расширяли, добавляя пристройки.

«Было что-то неуловимое в атмосфере нашего дома, что любили почти все, и, конечно, центром нашей жизни была умственная и художественная жизнь Льва Николаевича, а фоном для нее — милая молодежь и моя любовь к людям, к общению с ними», — писала Софья Андреевна Толстая.
В 1892 году с южной стороны дома возникла терраса с белыми балясинами с вырезанными на них лошадками, человечками и петушками. Постепенно она густо заросла диким виноградом и превратилась в уютный уголок: густая зелень, изящная плетеная мебель, ступеньки, спускающиеся в цветник. Летом здесь беседовали с гостями, пили чай, обедали.
Пристройка с южной стороны Дома была сделана в 1871 году.
Последняя пристройка — с противоположной стороны дома, выходящая в парк «Клины» — была закончена в 1894 году. Тогда яснополянский дом приобрел свой законченный облик.
В 1856 году Лев Толстой поселился в этом доме (бывшем флигеле).
Позже дом стал тесен для растущей семьи, и его неоднократно расширяли, добавляя пристройки.
Позже дом стал тесен для растущей семьи, и его неоднократно расширяли, добавляя пристройки.

«Было что-то неуловимое в атмосфере нашего дома, что любили почти все, и, конечно, центром нашей жизни была умственная и художественная жизнь Льва Николаевича, а фоном для нее — милая молодежь и моя любовь к людям, к общению с ними», — писала Софья Андреевна Толстая.
В 1892 году с южной стороны дома возникла терраса с белыми балясинами с вырезанными на них лошадками, человечками и петушками. Постепенно она густо заросла диким виноградом и превратилась в уютный уголок: густая зелень, изящная плетеная мебель, ступеньки, спускающиеся в цветник. Летом здесь беседовали с гостями, пили чай, обедали.
Пристройка с южной стороны Дома была сделана в 1871 году.
Последняя пристройка — с противоположной стороны дома, выходящая в парк «Клины» — была закончена в 1894 году. Тогда яснополянский дом приобрел свой законченный облик.
В 1856 году Лев Толстой поселился в этом доме (бывшем флигеле). Позже дом стал тесен для растущей семьи, и его неоднократно расширяли, добавляя пристройки.

«Было что-то неуловимое в атмосфере нашего дома, что любили почти все, и, конечно, центром нашей жизни была умственная и художественная жизнь Льва Николаевича, а фоном для нее — милая молодежь и моя любовь к людям, к общению с ними», — писала Софья Андреевна Толстая.
В 1892 году с южной стороны дома возникла терраса с белыми балясинами с вырезанными на них лошадками, человечками и петушками. Постепенно она густо заросла диким виноградом и превратилась в уютный уголок: густая зелень, изящная плетеная мебель, ступеньки, спускающиеся в цветник. Летом здесь беседовали с гостями, пили чай, обедали.
Пристройка с южной стороны Дома была сделана в 1871 году.
Последняя пристройка — с противоположной стороны дома, выходящая в парк «Клины» — была закончена в 1894 году. Тогда яснополянский дом приобрел свой законченный облик.
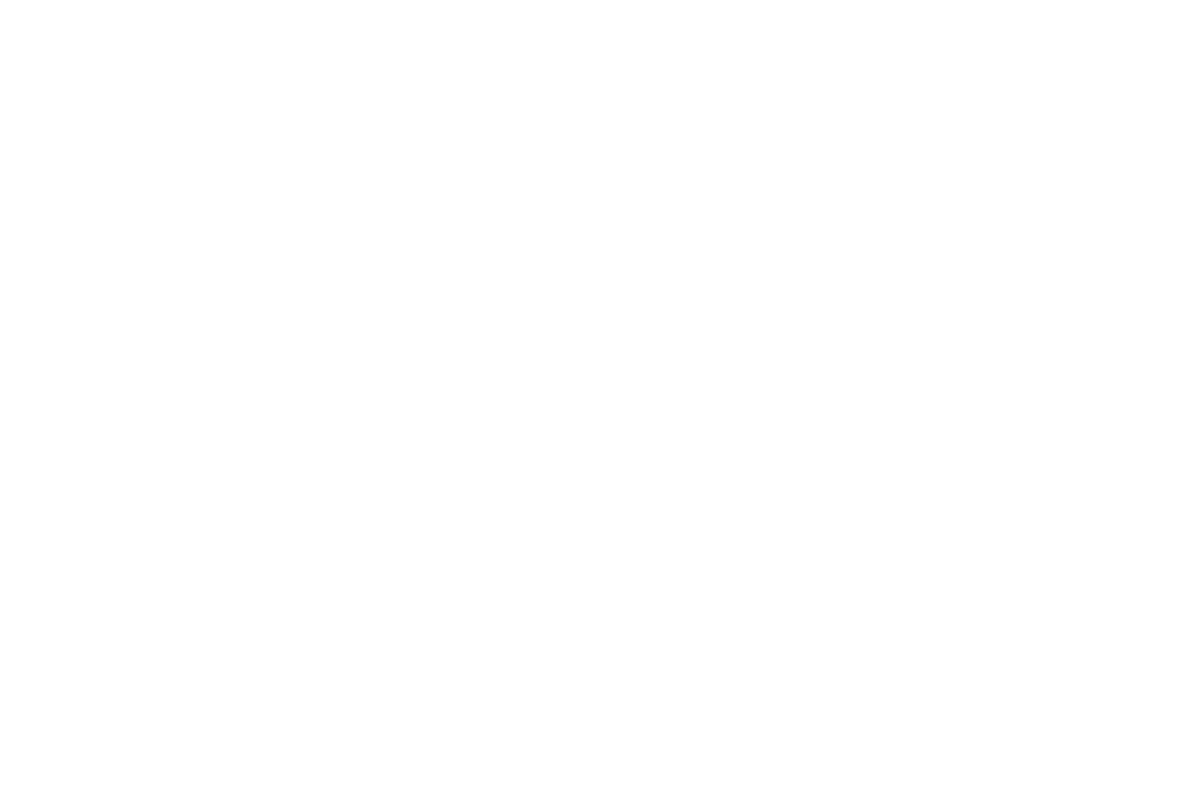
В 1856 году Лев Толстой поселился в этом доме (бывшем флигеле). Позже дом стал тесен для растущей семьи, и его неоднократно расширяли, добавляя пристройки.
Однажды Лев Толстой записал в дневнике: «По дому можно судить о его хозяине, и часто, взглянув на человека, можно представить себе его дом. Бывает и так, что человек настолько сроднится со своим жилищем, что подчас и понять трудно, где кончается обиталище и начинаются обитатели».
Сроднился ли со своим жилищем Лев Николаевич? Современному посетителю это легко почувствовать — и в запахе старых книг, и в скрипе старых половиц (дети писателя знали наизусть, какие из них скрипят, и обходили, чтобы не мешать работе). Верили в это и современники Льва Толстого, для которых побывать в Ясной Поляне было заветной мечтой. Многие отмечали простоту обстановки дома, отсутствие фальши и роскоши, открытость — качества, которые были свойственны его хозяину.
Черты яснополянского дома мы встречаем во многих произведениях Толстого. Одно из них — описание флигеля в Ергушове, деревне Облонских, из романа «Анна Каренина» — в точности повторяет местоположение дома Льва Толстого в Ясной Поляне: «В Ергушове большой старый дом был давно сломан, и еще князем был отделан и увеличен флигель. Флигель лет двадцать тому назад, когда Долли была ребенком, был поместителен и удобен, хоть и стоял, как все флигеля, боком к выездной аллее и к югу».
Сегодня дом хранит личные вещи Толстого, его жены Софьи Андреевны, их детей. Особенно были дороги сердцу писателя «вещицы-воспоминания», доставшиеся от предков. Это и письменный стол отца Николая Ильича Толстого — свидетель напряженного творческого труда Льва Николаевича; и диван, на котором родился писатель, его братья, сестра, дети и даже внуки; и подарок тетушки Туаннет [Татьяны Александровны Ёргольской] — пресс-папье «бронзовая собачка», которую мы видим на письменных столах князя Нехлюдова и Анны Карениной, и множество других предметов. Каждый из них несет в себе память поколений.
Сроднился ли со своим жилищем Лев Николаевич? Современному посетителю это легко почувствовать — и в запахе старых книг, и в скрипе старых половиц (дети писателя знали наизусть, какие из них скрипят, и обходили, чтобы не мешать работе). Верили в это и современники Льва Толстого, для которых побывать в Ясной Поляне было заветной мечтой. Многие отмечали простоту обстановки дома, отсутствие фальши и роскоши, открытость — качества, которые были свойственны его хозяину.
Черты яснополянского дома мы встречаем во многих произведениях Толстого. Одно из них — описание флигеля в Ергушове, деревне Облонских, из романа «Анна Каренина» — в точности повторяет местоположение дома Льва Толстого в Ясной Поляне: «В Ергушове большой старый дом был давно сломан, и еще князем был отделан и увеличен флигель. Флигель лет двадцать тому назад, когда Долли была ребенком, был поместителен и удобен, хоть и стоял, как все флигеля, боком к выездной аллее и к югу».
Сегодня дом хранит личные вещи Толстого, его жены Софьи Андреевны, их детей. Особенно были дороги сердцу писателя «вещицы-воспоминания», доставшиеся от предков. Это и письменный стол отца Николая Ильича Толстого — свидетель напряженного творческого труда Льва Николаевича; и диван, на котором родился писатель, его братья, сестра, дети и даже внуки; и подарок тетушки Туаннет [Татьяны Александровны Ёргольской] — пресс-папье «бронзовая собачка», которую мы видим на письменных столах князя Нехлюдова и Анны Карениной, и множество других предметов. Каждый из них несет в себе память поколений.
Однажды Лев Толстой записал в дневнике: «По дому можно судить о его хозяине, и часто, взглянув на человека, можно представить себе его дом. Бывает и так, что человек настолько сроднится со своим жилищем, что подчас и понять трудно, где кончается обиталище и начинаются обитатели».
Сроднился ли со своим жилищем Лев Николаевич? Современному посетителю это легко почувствовать — и в запахе старых книг, и в скрипе старых половиц (дети писателя знали наизусть, какие из них скрипят, и обходили, чтобы не мешать работе). Верили в это и современники Льва Толстого, для которых побывать в Ясной Поляне было заветной мечтой. Многие отмечали простоту обстановки дома, отсутствие фальши и роскоши, открытость — качества, которые были свойственны его хозяину.
Черты яснополянского дома мы встречаем во многих произведениях Толстого. Одно из них — описание флигеля в Ергушове, деревне Облонских, из романа «Анна Каренина» — в точности повторяет местоположение дома Льва Толстого в Ясной Поляне: «В Ергушове большой старый дом был давно сломан, и еще князем был отделан и увеличен флигель. Флигель лет двадцать тому назад, когда Долли была ребенком, был поместителен и удобен, хоть и стоял, как все флигеля, боком к выездной аллее и к югу».
Сегодня дом хранит личные вещи Толстого, его жены Софьи Андреевны, их детей. Особенно были дороги сердцу писателя «вещицы-воспоминания», доставшиеся от предков. Это и письменный стол отца Николая Ильича Толстого — свидетель напряженного творческого труда Льва Николаевича; и диван, на котором родился писатель, его братья, сестра, дети и даже внуки; и подарок тетушки Туаннет [Татьяны Александровны Ёргольской] — пресс-папье «бронзовая собачка», которую мы видим на письменных столах князя Нехлюдова и Анны Карениной, и множество других предметов. Каждый из них несет в себе память поколений.
Сроднился ли со своим жилищем Лев Николаевич? Современному посетителю это легко почувствовать — и в запахе старых книг, и в скрипе старых половиц (дети писателя знали наизусть, какие из них скрипят, и обходили, чтобы не мешать работе). Верили в это и современники Льва Толстого, для которых побывать в Ясной Поляне было заветной мечтой. Многие отмечали простоту обстановки дома, отсутствие фальши и роскоши, открытость — качества, которые были свойственны его хозяину.
Черты яснополянского дома мы встречаем во многих произведениях Толстого. Одно из них — описание флигеля в Ергушове, деревне Облонских, из романа «Анна Каренина» — в точности повторяет местоположение дома Льва Толстого в Ясной Поляне: «В Ергушове большой старый дом был давно сломан, и еще князем был отделан и увеличен флигель. Флигель лет двадцать тому назад, когда Долли была ребенком, был поместителен и удобен, хоть и стоял, как все флигеля, боком к выездной аллее и к югу».
Сегодня дом хранит личные вещи Толстого, его жены Софьи Андреевны, их детей. Особенно были дороги сердцу писателя «вещицы-воспоминания», доставшиеся от предков. Это и письменный стол отца Николая Ильича Толстого — свидетель напряженного творческого труда Льва Николаевича; и диван, на котором родился писатель, его братья, сестра, дети и даже внуки; и подарок тетушки Туаннет [Татьяны Александровны Ёргольской] — пресс-папье «бронзовая собачка», которую мы видим на письменных столах князя Нехлюдова и Анны Карениной, и множество других предметов. Каждый из них несет в себе память поколений.
Символ времени
Старинные часы
Символ времени
Старинные часы

«Ровно в семь часов, еще не добили часы, князь вышел с крыльца в чулках и башмаках, в простом сереньком камзоле с звездой и в круглой шляпе», — писал Лев Толстой в одном из набросков к роману «Война и мир».
Один из самых старых экспонатов Дома Льва Толстого

«Ровно в семь часов, еще не добили часы, князь вышел с крыльца в чулках и башмаках, в простом сереньком камзоле с звездой и в круглой шляпе», — писал Лев Толстой в одном из набросков к роману «Война и мир».
Один из самых старых экспонатов Дома Льва Толстого
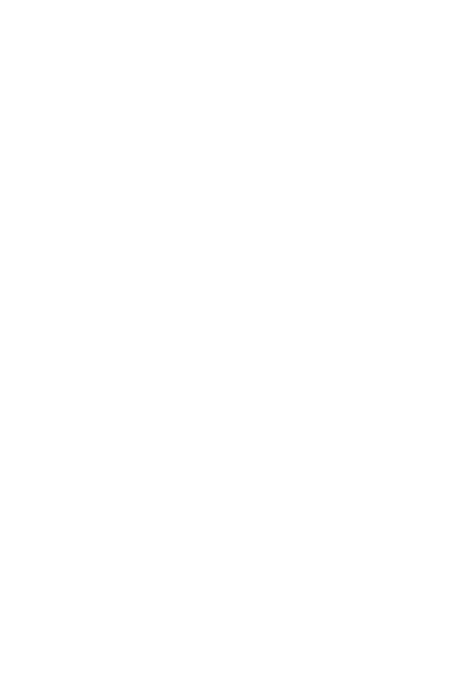
Один из самых старых экспонатов Дома Льва Толстого

«Ровно в семь часов, еще не добили часы, князь вышел с крыльца в чулках и башмаках, в простом сереньком камзоле с звездой и в круглой шляпе», — писал Лев Толстой в одном из набросков к роману «Война и мир».
Один из самых старых экспонатов Дома Льва Толстого
Вот уже более 200 лет время в Ясной Поляне отмеряют часы известного английского часовщика второй половины XVIII века Эрдли Нортона (Eardley Norton). Мастерская Нортона располагалась в самом центре Лондона на St. John Street, 49, и была поставщиком высококлассных часов для многих европейских и азиатских монарших дворов, в том числе и двора Екатерины II. Его имя имело такую хорошую репутацию, что даже после кончины самого Нортона в 1792 году наследники его дела — партнеры Гравел и Толкин — некоторое время продолжали выпускать часы под маркой Eardley Norton (кстати, партнер Нортона Дж. Б. Толкин — прапрапрадед писателя Джона Р. Р. Толкина).
Так как Эрдли Нортон нумеровал свои часы, можно установить время создания каждого экземпляра. Последний известный номер напольных часов типа «longcase» [часы в длинном футляре], появившихся в 1790-е годы, — 3972. Яснополянские часы имеют номер в два раза меньший, что позволяет предположить время их создания как 1770–1780-е годы. Это одна из самых старых вещей Дома Толстого. Часы такого типа также называют «дедушкины» [grandfather's сlock]. Их высота больше двух метров.
По семейному преданию, яснополянские часы были приобретены князем Николаем Сергеевичем Волконским — дедом Льва Толстого — и с начала XIX века находятся в усадьбе. Так что они уже давно стали не просто механизмом, показывающим точное время, а символом размеренного течения времени и жизни. Их четкий ход был созвучен «гармонии разума и порядка», царившим в повседневной жизни князя. Они показывают не только часы, минуты и секунды, но и числа месяца и имеют очень красивый мелодичный бой. Ранним летним утром, когда в усадьбе мало посетителей, а окна Дома Толстого бывают открыты, бой этих часов слышен и на улице.
Для Льва Толстого и его семьи эти часы были неотъемлемой частью жизни и так же незаметно и определенно вошли и в ткань художественных произведений (вспомним сцену прогулки старого князя Болконского в набросках «Войны и мира»), и в воспоминания его близких. Например, Илья Львович Толстой писал: «... в восемь часов подают чай, и начинаются самые лучшие вечерние часы, когда все собираются в зале, большие разговаривают, читают вслух, играют на фортепьяно, а мы или слушаем больших, или затеваем что-нибудь свое, веселое, и с трепетом ждем, что вот-вот старинные английские часы на площадке лестницы щелкнут, засипят и звонко и медленно пробьют десять...».
В наши дни по-прежнему ритмичный и четкий ход этих старинных часов словно камертон настраивает на диалог с прошлым многочисленных экскурсантов.
Так как Эрдли Нортон нумеровал свои часы, можно установить время создания каждого экземпляра. Последний известный номер напольных часов типа «longcase» [часы в длинном футляре], появившихся в 1790-е годы, — 3972. Яснополянские часы имеют номер в два раза меньший, что позволяет предположить время их создания как 1770–1780-е годы. Это одна из самых старых вещей Дома Толстого. Часы такого типа также называют «дедушкины» [grandfather's сlock]. Их высота больше двух метров.
По семейному преданию, яснополянские часы были приобретены князем Николаем Сергеевичем Волконским — дедом Льва Толстого — и с начала XIX века находятся в усадьбе. Так что они уже давно стали не просто механизмом, показывающим точное время, а символом размеренного течения времени и жизни. Их четкий ход был созвучен «гармонии разума и порядка», царившим в повседневной жизни князя. Они показывают не только часы, минуты и секунды, но и числа месяца и имеют очень красивый мелодичный бой. Ранним летним утром, когда в усадьбе мало посетителей, а окна Дома Толстого бывают открыты, бой этих часов слышен и на улице.
Для Льва Толстого и его семьи эти часы были неотъемлемой частью жизни и так же незаметно и определенно вошли и в ткань художественных произведений (вспомним сцену прогулки старого князя Болконского в набросках «Войны и мира»), и в воспоминания его близких. Например, Илья Львович Толстой писал: «... в восемь часов подают чай, и начинаются самые лучшие вечерние часы, когда все собираются в зале, большие разговаривают, читают вслух, играют на фортепьяно, а мы или слушаем больших, или затеваем что-нибудь свое, веселое, и с трепетом ждем, что вот-вот старинные английские часы на площадке лестницы щелкнут, засипят и звонко и медленно пробьют десять...».
В наши дни по-прежнему ритмичный и четкий ход этих старинных часов словно камертон настраивает на диалог с прошлым многочисленных экскурсантов.
Вот уже более 200 лет время в Ясной Поляне отмеряют часы известного английского часовщика второй половины XVIII века Эрдли Нортона (Eardley Norton). Мастерская Нортона располагалась в самом центре Лондона на St. John Street, 49, и была поставщиком высококлассных часов для многих европейских и азиатских монарших дворов, в том числе и двора Екатерины II. Его имя имело такую хорошую репутацию, что даже после кончины самого Нортона в 1792 году наследники его дела — партнеры Гравел и Толкин — некоторое время продолжали выпускать часы под маркой Eardley Norton (кстати, партнер Нортона Дж. Б. Толкин — прапрапрадед писателя Джона Р. Р. Толкина).
Так как Эрдли Нортон нумеровал свои часы, можно установить время создания каждого экземпляра. Последний известный номер напольных часов типа «longcase» [часы в длинном футляре], появившихся в 1790-е годы, — 3972. Яснополянские часы имеют номер в два раза меньший, что позволяет предположить время их создания как 1770–1780-е годы. Это одна из самых старых вещей Дома Толстого. Часы такого типа также называют «дедушкины» [grandfather's сlock]. Их высота больше двух метров.
По семейному преданию, яснополянские часы были приобретены князем Николаем Сергеевичем Волконским — дедом Льва Толстого — и с начала XIX века находятся в усадьбе. Так что они уже давно стали не просто механизмом, показывающим точное время, а символом размеренного течения времени и жизни. Их четкий ход был созвучен «гармонии разума и порядка», царившим в повседневной жизни князя. Они показывают не только часы, минуты и секунды, но и числа месяца и имеют очень красивый мелодичный бой. Ранним летним утром, когда в усадьбе мало посетителей, а окна Дома Толстого бывают открыты, бой этих часов слышен и на улице.
Для Льва Толстого и его семьи эти часы были неотъемлемой частью жизни и так же незаметно и определенно вошли и в ткань художественных произведений (вспомним сцену прогулки старого князя Болконского в набросках «Войны и мира»), и в воспоминания его близких. Например, Илья Львович Толстой писал: «... в восемь часов подают чай, и начинаются самые лучшие вечерние часы, когда все собираются в зале, большие разговаривают, читают вслух, играют на фортепьяно, а мы или слушаем больших, или затеваем что-нибудь свое, веселое, и с трепетом ждем, что вот-вот старинные английские часы на площадке лестницы щелкнут, засипят и звонко и медленно пробьют десять...».
В наши дни по-прежнему ритмичный и четкий ход этих старинных часов словно камертон настраивает на диалог с прошлым многочисленных экскурсантов.
Так как Эрдли Нортон нумеровал свои часы, можно установить время создания каждого экземпляра. Последний известный номер напольных часов типа «longcase» [часы в длинном футляре], появившихся в 1790-е годы, — 3972. Яснополянские часы имеют номер в два раза меньший, что позволяет предположить время их создания как 1770–1780-е годы. Это одна из самых старых вещей Дома Толстого. Часы такого типа также называют «дедушкины» [grandfather's сlock]. Их высота больше двух метров.
По семейному преданию, яснополянские часы были приобретены князем Николаем Сергеевичем Волконским — дедом Льва Толстого — и с начала XIX века находятся в усадьбе. Так что они уже давно стали не просто механизмом, показывающим точное время, а символом размеренного течения времени и жизни. Их четкий ход был созвучен «гармонии разума и порядка», царившим в повседневной жизни князя. Они показывают не только часы, минуты и секунды, но и числа месяца и имеют очень красивый мелодичный бой. Ранним летним утром, когда в усадьбе мало посетителей, а окна Дома Толстого бывают открыты, бой этих часов слышен и на улице.
Для Льва Толстого и его семьи эти часы были неотъемлемой частью жизни и так же незаметно и определенно вошли и в ткань художественных произведений (вспомним сцену прогулки старого князя Болконского в набросках «Войны и мира»), и в воспоминания его близких. Например, Илья Львович Толстой писал: «... в восемь часов подают чай, и начинаются самые лучшие вечерние часы, когда все собираются в зале, большие разговаривают, читают вслух, играют на фортепьяно, а мы или слушаем больших, или затеваем что-нибудь свое, веселое, и с трепетом ждем, что вот-вот старинные английские часы на площадке лестницы щелкнут, засипят и звонко и медленно пробьют десять...».
В наши дни по-прежнему ритмичный и четкий ход этих старинных часов словно камертон настраивает на диалог с прошлым многочисленных экскурсантов.
Символ рода
Диван, принадлежавший отцу писателя
Символ рода
Диван, принадлежавший
отцу писателя
отцу писателя
«В "Книге вопросов", которая была у сестры Тани, на вопрос: "Где вы родились?" — отец ответил: "В Ясной Поляне, на кожаном диване". Этот заветный кожаный диван орехового дерева, на котором родились и мы, трое старших детей, всегда стоял и сейчас стоит в комнате отца», — писал Илья Львович Толстой.

Порез, сделанный немецким солдатом в 1941 году.
Большая клеенчатая подушка, на которой обычно отдыхал Лев Николаевич.
Суконная подушка с аппликацией, сделанная дочерью Толстого Марией.
Кожаная подушка — подарок к 80-летнему юбилею от Новоторжского Земства «В Знак Величайшего Почитания».
«В "Книге вопросов", которая была у сестры Тани, на вопрос: "Где вы родились?" — отец ответил: "В Ясной Поляне, на кожаном диване". Этот заветный кожаный диван орехового дерева, на котором родились и мы, трое старших детей, всегда стоял и сейчас стоит в комнате отца», — писал Илья Львович Толстой.

Порез, сделанный немецким солдатом в 1941 году.
Большая клеенчатая подушка, на которой обычно отдыхал Лев Николаевич.
Суконная подушка с аппликацией, сделанная дочерью Толстого Марией.
Кожаная подушка — подарок к 80-летнему юбилею от Новоторжского Земства «В Знак Величайшего Почитания».
«В "Книге вопросов", которая была у сестры Тани, на вопрос: "Где вы родились?" — отец ответил: "В Ясной Поляне, на кожаном диване". Этот заветный кожаный диван орехового дерева, на котором родились и мы, трое старших детей, всегда стоял и сейчас стоит в комнате отца», — писал Илья Львович Толстой.

Порез, сделанный немецким солдатом в 1941 году.
Большая клеенчатая подушка, на которой обычно отдыхал Лев Николаевич.
Суконная подушка с аппликацией, сделанная дочерью Толстого Марией.
Кожаная подушка — подарок к 80-летнему юбилею от Новоторжского Земства «В Знак Величайшего Почитания».
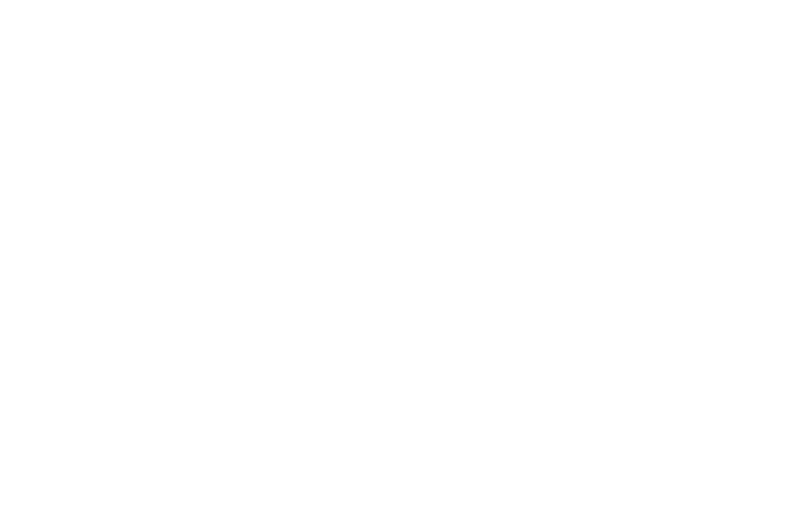
«В "Книге вопросов", которая была у сестры Тани, на вопрос: "Где вы родились?" — отец ответил: "В Ясной Поляне, на кожаном диване". Этот заветный кожаный диван орехового дерева, на котором родились и мы, трое старших детей, всегда стоял и сейчас стоит в комнате отца», — писал Илья Львович Толстой.
В какой бы комнате дома ни располагался кабинет писателя (а он несколько раз менял расположение), туда неизменно переносили диван, принадлежавший его отцу Николаю Ильичу Толстому. На этом диване родились сам Лев Николаевич, его братья и сестра, некоторые из его собственных детей и две внучки — Таня и Соня.
Толстой воспроизвел семейную традицию в романе «Война и мир», описывая роды Лизы Болконской: «Через пять минут княжна из своей комнаты услыхала, что несут что-то тяжелое. Она выглянула — официанты несли для чего-то в спальню кожаный диван, стоявший в кабинете князя Андрея. На лицах несших людей было что-то торжественное и тихое».
Изначально диван был обит зеленым сафьяном, натянутым гвоздиками с золочеными шляпками. Но еще при жизни писателя, когда обивка пришла в негодность, его обтянули дерматином — популярным и даже модным на тот момент материалом.
Во время фашистской оккупации Ясной Поляны в 1941 году диван был одним из немногих предметов, оставшихся в доме Толстого. Из-за размеров его не смогли эвакуировать в Томск, как другие экспонаты. На диване осталась отметина военного времени — порез, сделанный немецким солдатом перед уходом из усадьбы.
Толстой воспроизвел семейную традицию в романе «Война и мир», описывая роды Лизы Болконской: «Через пять минут княжна из своей комнаты услыхала, что несут что-то тяжелое. Она выглянула — официанты несли для чего-то в спальню кожаный диван, стоявший в кабинете князя Андрея. На лицах несших людей было что-то торжественное и тихое».
Изначально диван был обит зеленым сафьяном, натянутым гвоздиками с золочеными шляпками. Но еще при жизни писателя, когда обивка пришла в негодность, его обтянули дерматином — популярным и даже модным на тот момент материалом.
Во время фашистской оккупации Ясной Поляны в 1941 году диван был одним из немногих предметов, оставшихся в доме Толстого. Из-за размеров его не смогли эвакуировать в Томск, как другие экспонаты. На диване осталась отметина военного времени — порез, сделанный немецким солдатом перед уходом из усадьбы.
В какой бы комнате дома ни располагался кабинет писателя (а он несколько раз менял расположение), туда неизменно переносили диван, принадлежавший его отцу Николаю Ильичу Толстому. На этом диване родились сам Лев Николаевич, его братья и сестра, некоторые из его собственных детей и две внучки — Таня и Соня.
Толстой воспроизвел семейную традицию в романе «Война и мир», описывая роды Лизы Болконской: «Через пять минут княжна из своей комнаты услыхала, что несут что-то тяжелое. Она выглянула — официанты несли для чего-то в спальню кожаный диван, стоявший в кабинете князя Андрея. На лицах несших людей было что-то торжественное и тихое».
Изначально диван был обит зеленым сафьяном, натянутым гвоздиками с золочеными шляпками. Но еще при жизни писателя, когда обивка пришла в негодность, его обтянули дерматином — популярным и даже модным на тот момент материалом.
Во время фашистской оккупации Ясной Поляны в 1941 году диван был одним из немногих предметов, оставшихся в доме Толстого. Из-за размеров его не смогли эвакуировать в Томск, как другие экспонаты. На диване осталась отметина военного времени — порез, сделанный немецким солдатом перед уходом из усадьбы.
Толстой воспроизвел семейную традицию в романе «Война и мир», описывая роды Лизы Болконской: «Через пять минут княжна из своей комнаты услыхала, что несут что-то тяжелое. Она выглянула — официанты несли для чего-то в спальню кожаный диван, стоявший в кабинете князя Андрея. На лицах несших людей было что-то торжественное и тихое».
Изначально диван был обит зеленым сафьяном, натянутым гвоздиками с золочеными шляпками. Но еще при жизни писателя, когда обивка пришла в негодность, его обтянули дерматином — популярным и даже модным на тот момент материалом.
Во время фашистской оккупации Ясной Поляны в 1941 году диван был одним из немногих предметов, оставшихся в доме Толстого. Из-за размеров его не смогли эвакуировать в Томск, как другие экспонаты. На диване осталась отметина военного времени — порез, сделанный немецким солдатом перед уходом из усадьбы.
Символ любви
Подушка, подаренная сестрой писателя
Символ любви
Подушка, подаренная
сестрой писателя
сестрой писателя
На подушке изображены главные православные символы

Ключи — от Царствия Небесного.
Бабочка — живущие без забот о завтрашнем дне.
Петух — напоминание христианам об отречении апостола Петра и милости Божией, прощающей грехи раскаявшимся грешникам.
Замок — хранение уст от многословия.
Якорь — надежда на помилование и получение Царствия Небесного
Крест — символ скорби, болезни и прочих тягот земной жизни, посылаемых Богом.
Корона — Царский венец, уготованный тому, чье сердце всецело принадлежит Богу.
Вифлеемская звезда, возвестившая о рождении Спасителя.
Пальма — символ мученичества.
Лира — славословящие Бога.
Потир — церковная чаша, в которой выносятся Святые Дары во время Божественной литургии.
Дом — палаты Царствия Небесного.
На подушке изображены главные православные символы

Ключи — от Царствия Небесного.
Бабочка — живущие без забот о завтрашнем дне.
Петух — напоминание христианам об отречении апостола Петра и милости Божией, прощающей грехи раскаявшимся грешникам.
Замок — хранение уст от многословия.
Якорь — надежда на помилование и получение Царствия Небесного
Крест — символ скорби, болезни и прочих тягот земной жизни, посылаемых Богом.
Корона — Царский венец, уготованный тому, чье сердце всецело принадлежит Богу.
Вифлеемская звезда, возвестившая о рождении Спасителя.
Пальма — символ мученичества.
Лира — славословящие Бога.
Потир — церковная чаша, в которой выносятся Святые Дары во время Божественной литургии.
Дом — палаты Царствия Небесного.
На подушке изображены главные православные символы

Ключи — от Царствия Небесного.
Бабочка — живущие без забот о завтрашнем дне.
Петух — напоминание христианам об отречении апостола Петра и милости Божией, прощающей грехи раскаявшимся грешникам.
Замок — хранение уст от многословия.
Якорь — надежда на помилование и получение Царствия Небесного
Крест — символ скорби, болезни и прочих тягот земной жизни, посылаемых Богом.
Корона — Царский венец, уготованный тому, чье сердце всецело принадлежит Богу.
Вифлеемская звезда, возвестившая о рождении Спасителя.
Пальма — символ мученичества.
Лира — славословящие Бога.
Потир — церковная чаша, в которой выносятся Святые Дары во время Божественной литургии.
Дом — палаты Царствия Небесного.
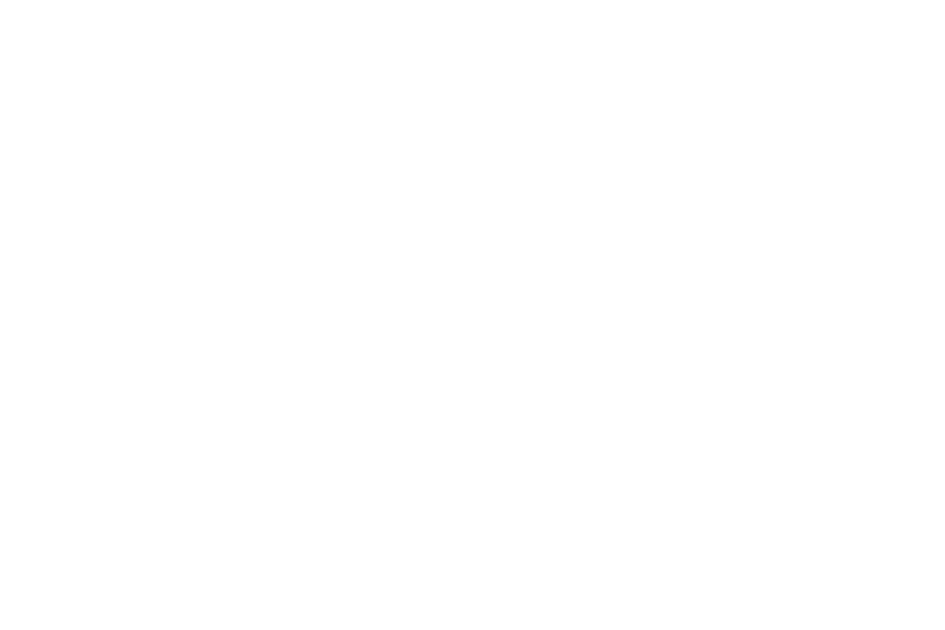
На подушке изображены главные православные символы
В спальне Льва Толстого на его кровати лежит маленькая красная подушечка, на которой внизу черной шерстью вышито: «Одна из 700 Ш-х дур» (Шамординских дур). Это подарок сестры Толстого Марии Николаевны (1830–1912), которая была одной из 700 монахинь Шамординского женского монастыря.
Лев Николаевич горячо любил свою младшую сестру Машу. С возрастом чувство дружбы, которое их всегда связывало, переросло в глубокую нежность и уважение, несмотря на разницу в религиозных взглядях.
С 1889 года Мария Николаевна жила в Шамординском монастыре, а в 1909 году приняла келейное пострижение. Толстой не сразу одобрил выбор сестры и горячо спорил с ней первые годы ее жизни в монастыре. Появление этой подушки связано с одним из таких споров, произошедшим во время визита Льва Николаевича к своей сестре в Шамординский монастырь.
Илья Львович Толстой вспоминал: «Отец возмутился тем, что монахини не живут своим умом, и полушутя сказал: "Стало быть, вас тут шестьсот дур, которые все живут чужим умом". Тетя Маша запомнила эти слова Льва Николаевича и в следующий свой приезд в Ясную подарила ему вышитую по канве подушечку "от одной из шестисот [здесь — неточность воспоминания] шамардинских дур" ».
Дочь Марии Николаевны Елизавета Оболенская вспоминала, что Лев Николаевич в ответ на этот подарок «сам на себя неодобрительно покачал головой» и признал, что со словами надо быть осторожнее. «Спасибо тебе, Машенька, за подушку, а еще больше за урок», — поблагодарил он сестру.
Помимо надписи на подушке Мария Николаевна обозначила главные православные символы: крест, Вифлеемскую звезду, потир, ключи от Царства Небесного и другие, как символический ответ брату о смысле жизни. Лев Николаевич очень дорожил этим подарком и всегда клал подушку около себя.
Уходя из Ясной Поляны 28 октября 1910 года, он оставил подушку в доме, но отправился в первую очередь именно к сестре. «Он не мог не приехать к тете Маше, которая одна только была в состоянии понять то, что он переживал, и могла вместе с ним поплакать и хоть немного его успокоить», — вспоминал Илья Львович Толстой.
Лев Николаевич горячо любил свою младшую сестру Машу. С возрастом чувство дружбы, которое их всегда связывало, переросло в глубокую нежность и уважение, несмотря на разницу в религиозных взглядях.
С 1889 года Мария Николаевна жила в Шамординском монастыре, а в 1909 году приняла келейное пострижение. Толстой не сразу одобрил выбор сестры и горячо спорил с ней первые годы ее жизни в монастыре. Появление этой подушки связано с одним из таких споров, произошедшим во время визита Льва Николаевича к своей сестре в Шамординский монастырь.
Илья Львович Толстой вспоминал: «Отец возмутился тем, что монахини не живут своим умом, и полушутя сказал: "Стало быть, вас тут шестьсот дур, которые все живут чужим умом". Тетя Маша запомнила эти слова Льва Николаевича и в следующий свой приезд в Ясную подарила ему вышитую по канве подушечку "от одной из шестисот [здесь — неточность воспоминания] шамардинских дур" ».
Дочь Марии Николаевны Елизавета Оболенская вспоминала, что Лев Николаевич в ответ на этот подарок «сам на себя неодобрительно покачал головой» и признал, что со словами надо быть осторожнее. «Спасибо тебе, Машенька, за подушку, а еще больше за урок», — поблагодарил он сестру.
Помимо надписи на подушке Мария Николаевна обозначила главные православные символы: крест, Вифлеемскую звезду, потир, ключи от Царства Небесного и другие, как символический ответ брату о смысле жизни. Лев Николаевич очень дорожил этим подарком и всегда клал подушку около себя.
Уходя из Ясной Поляны 28 октября 1910 года, он оставил подушку в доме, но отправился в первую очередь именно к сестре. «Он не мог не приехать к тете Маше, которая одна только была в состоянии понять то, что он переживал, и могла вместе с ним поплакать и хоть немного его успокоить», — вспоминал Илья Львович Толстой.
В спальне Льва Толстого на его кровати лежит маленькая красная подушечка, на которой внизу черной шерстью вышито: «Одна из 700 Ш-х дур» (Шамординских дур). Это подарок сестры Толстого Марии Николаевны (1830–1912), которая была одной из 700 монахинь Шамординского женского монастыря.
Лев Николаевич горячо любил свою младшую сестру Машу. С возрастом чувство дружбы, которое их всегда связывало, переросло в глубокую нежность и уважение, несмотря на разницу в религиозных взглядях.
С 1889 года Мария Николаевна жила в Шамординском монастыре, а в 1909 году приняла келейное пострижение. Толстой не сразу одобрил выбор сестры и горячо спорил с ней первые годы ее жизни в монастыре. Появление этой подушки связано с одним из таких споров, произошедшим во время визита Льва Николаевича к своей сестре в Шамординский монастырь.
Илья Львович Толстой вспоминал: «Отец возмутился тем, что монахини не живут своим умом, и полушутя сказал: "Стало быть, вас тут шестьсот дур, которые все живут чужим умом". Тетя Маша запомнила эти слова Льва Николаевича и в следующий свой приезд в Ясную подарила ему вышитую по канве подушечку "от одной из шестисот [здесь — неточность воспоминания] шамардинских дур" ».
Дочь Марии Николаевны Елизавета Оболенская вспоминала, что Лев Николаевич в ответ на этот подарок «сам на себя неодобрительно покачал головой» и признал, что со словами надо быть осторожнее. «Спасибо тебе, Машенька, за подушку, а еще больше за урок», — поблагодарил он сестру.
Помимо надписи на подушке Мария Николаевна обозначила главные православные символы: крест, Вифлеемскую звезду, потир, ключи от Царства Небесного и другие, как символический ответ брату о смысле жизни. Лев Николаевич очень дорожил этим подарком и всегда клал подушку около себя.
Уходя из Ясной Поляны 28 октября 1910 года, он оставил подушку в доме, но отправился в первую очередь именно к сестре. «Он не мог не приехать к тете Маше, которая одна только была в состоянии понять то, что он переживал, и могла вместе с ним поплакать и хоть немного его успокоить», — вспоминал Илья Львович Толстой.
Лев Николаевич горячо любил свою младшую сестру Машу. С возрастом чувство дружбы, которое их всегда связывало, переросло в глубокую нежность и уважение, несмотря на разницу в религиозных взглядях.
С 1889 года Мария Николаевна жила в Шамординском монастыре, а в 1909 году приняла келейное пострижение. Толстой не сразу одобрил выбор сестры и горячо спорил с ней первые годы ее жизни в монастыре. Появление этой подушки связано с одним из таких споров, произошедшим во время визита Льва Николаевича к своей сестре в Шамординский монастырь.
Илья Львович Толстой вспоминал: «Отец возмутился тем, что монахини не живут своим умом, и полушутя сказал: "Стало быть, вас тут шестьсот дур, которые все живут чужим умом". Тетя Маша запомнила эти слова Льва Николаевича и в следующий свой приезд в Ясную подарила ему вышитую по канве подушечку "от одной из шестисот [здесь — неточность воспоминания] шамардинских дур" ».
Дочь Марии Николаевны Елизавета Оболенская вспоминала, что Лев Николаевич в ответ на этот подарок «сам на себя неодобрительно покачал головой» и признал, что со словами надо быть осторожнее. «Спасибо тебе, Машенька, за подушку, а еще больше за урок», — поблагодарил он сестру.
Помимо надписи на подушке Мария Николаевна обозначила главные православные символы: крест, Вифлеемскую звезду, потир, ключи от Царства Небесного и другие, как символический ответ брату о смысле жизни. Лев Николаевич очень дорожил этим подарком и всегда клал подушку около себя.
Уходя из Ясной Поляны 28 октября 1910 года, он оставил подушку в доме, но отправился в первую очередь именно к сестре. «Он не мог не приехать к тете Маше, которая одна только была в состоянии понять то, что он переживал, и могла вместе с ним поплакать и хоть немного его успокоить», — вспоминал Илья Львович Толстой.
Символ единения
Книги на эсперанто из личной библиотеки писателя
Символ единения
Книги на эсперанто
из личной библиотеки писателя
из личной библиотеки писателя
Журнал на эсперанто из личной библиотеки Л. Н. Толстого

«Легкость обучения его такова, что, получив лет шесть тому назад эсперантскую грамматику, словарь и статьи, написанные на этом языке, я после не более двух часов занятий был в состоянии, если не писать, то свободно читать на этом языке», — писал Толстой об эсперанто в 1894 году.
Журнал на эсперанто из личной библиотеки Л. Н. Толстого

«Легкость обучения его такова, что, получив лет шесть тому назад эсперантскую грамматику, словарь и статьи, написанные на этом языке, я после не более двух часов занятий был в состоянии, если не писать, то свободно читать на этом языке», — писал Толстой об эсперанто в 1894 году.
Журнал на эсперанто из личной библиотеки Л. Н. Толстого

«Легкость обучения его такова, что, получив лет шесть тому назад эсперантскую грамматику, словарь и статьи, написанные на этом языке, я после не более двух часов занятий был в состоянии, если не писать, то свободно читать на этом языке», — писал Толстой об эсперанто в 1894 году.
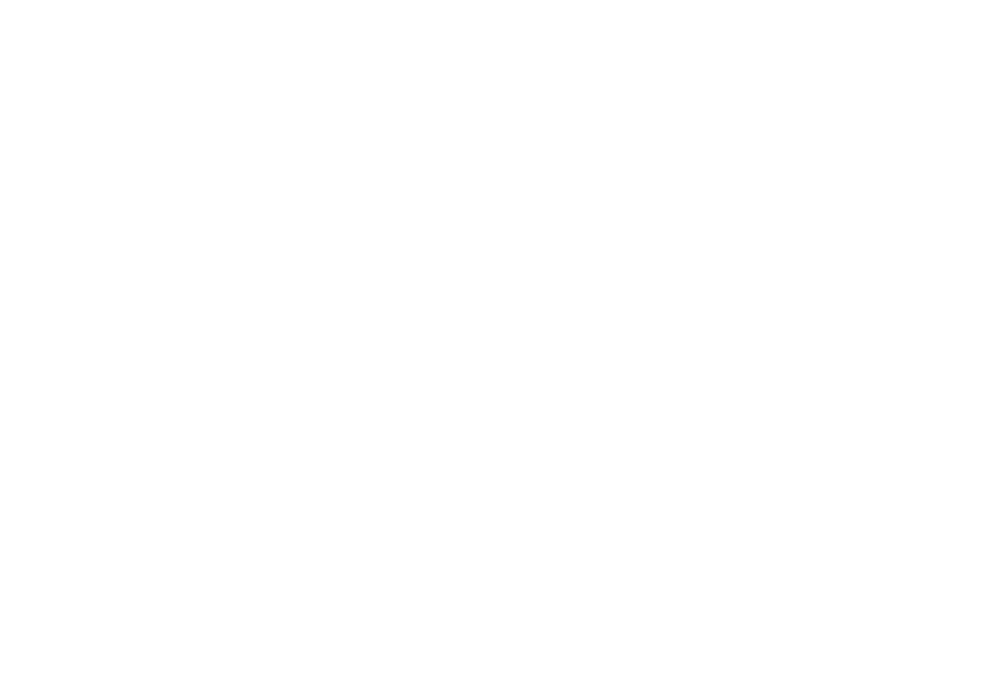
Журнал на эсперанто из личной библиотеки Л. Н. Толстого
Лев Толстой в той или иной мере знал более пятнадцати иностранных языков, включая эсперанто — язык, созданный искусственно к 1887 году. Эсперанто должен был служить универсальным международным языком.
Знакомство писателя с этим языком состоялось в 1889 году. Тогда петербургский эсперантист [человек, который говорит на эсперанто или иначе использует этот язык] Владимир Майнов прислал в Ясную Поляну учебник международного языка.
Писатель прочел учебник и написал в ответном письме: «<...> считаю дело это — усвоение европейцами одного языка — делом первой важности, и потому очень благодарю вас за присылку и буду по мере сил стараться распространять этот язык; и, главное, убеждение в его необходимости». Среди близких Толстого эсперантистами были его друг и сподвижник Владимир Чертков, а также пианист и композитор Сергей Танеев.
Толстой не был лично знаком с создателем искусственного языка Людвигом Заменгофом и не состоял с ним в переписке, но волею судьбы сыграл определенную роль в распространении эсперанто в Российской империи и за рубежом. Сближаясь с Толстым, эсперантисты «могли навредить своему движению, поскольку с 1882 года Министерство внутренних дел установило за графом "негласное наблюдение"». Однако поддержка всемирно известного писателя оказалась для них важнее.
Высказывания Толстого и его последователей — сотрудников издательства «Посредник» — о международном языке появились в первом периодическом издании на эсперанто — «Esperantisto», главным редактором которого в то время был сам Заменгоф. В февральском номере за 1895 год было напечатано ранее запрещенное к публикации письмо Толстого от 26 ноября 1894 года, озаглавленное «Разум или вера?» [Prudento aŭ kredo?]. Из-за этого с апреля 1895 года газета перестала распространяться в Российской империи, где проживало большинство ее подписчиков.
Узнав о случившемся, Толстой обратился с просьбой о помощи к своему «духовному другу» Николаю Страхову, служившему в Комитете иностранной цензуры: «Есть такой доктор Заменгоф, который изобрел эсперантский язык и издавал на нем журнал, кажется в Дрездене [Нюрнберге]. Журнал имел около 600 подписчиков, из которых большинство было в России. Мои друзья, особенно один, Трегубов, большой сторонник Эсперанто, желая поддержать журнал, дал туда одно мое письмо об отношении разума к вере, очень невинное, и еще одну статью о неплатеже податей в Голландии. Это сделало то, что Эсперанто газету запретили впускать в Россию, и Заменгоф, страстно преданный своему изобретению, разорившийся и прежде на это дело, пострадал отчасти от меня. Нельзя ли выхлопотать ему опять разрешение на выписку газеты в Россию. Я обязуюсь ничего не печатать у него и не принимать никакого участия».
Страхов ответил Толстому, что поручил дело председателю Комитета поэту Аполлону Майкову: «Он нашел его возможным и твердо обещал сделать». В итоге запрет сняли, но газета «прекратила свое существование, лишившись ¾ подписчиков».
До 1910 года в эсперантистских журналах были напечатаны сочинения Толстого: «Франсуаза», «Патриотизм и Правительство», «Карма», «Три смерти», «Разум или вера?», «О воспитании». В личной библиотеке писателя хранятся несколько журналов, книг и учебных пособий на эсперанто. В их числе: «Гамлет, принц Датский» Уильяма Шекспира в переводе Заменгофа (Нюрнберг, 1894), «Суд Озириса» Генрика Сенкевича (Варшава, 1908), «Первый винокур, или как чертенок краюшку заслужил» Льва Толстого (Нюрнберг, 1896).
В 1896 году по пьесе «Первый винокур» в Смоленске впервые в мире был показан спектакль на эсперанто. Постановку осуществила группа любителей театрального искусства под руководством А. Закржевского.
Знакомство писателя с этим языком состоялось в 1889 году. Тогда петербургский эсперантист [человек, который говорит на эсперанто или иначе использует этот язык] Владимир Майнов прислал в Ясную Поляну учебник международного языка.
Писатель прочел учебник и написал в ответном письме: «<...> считаю дело это — усвоение европейцами одного языка — делом первой важности, и потому очень благодарю вас за присылку и буду по мере сил стараться распространять этот язык; и, главное, убеждение в его необходимости». Среди близких Толстого эсперантистами были его друг и сподвижник Владимир Чертков, а также пианист и композитор Сергей Танеев.
Толстой не был лично знаком с создателем искусственного языка Людвигом Заменгофом и не состоял с ним в переписке, но волею судьбы сыграл определенную роль в распространении эсперанто в Российской империи и за рубежом. Сближаясь с Толстым, эсперантисты «могли навредить своему движению, поскольку с 1882 года Министерство внутренних дел установило за графом "негласное наблюдение"». Однако поддержка всемирно известного писателя оказалась для них важнее.
Высказывания Толстого и его последователей — сотрудников издательства «Посредник» — о международном языке появились в первом периодическом издании на эсперанто — «Esperantisto», главным редактором которого в то время был сам Заменгоф. В февральском номере за 1895 год было напечатано ранее запрещенное к публикации письмо Толстого от 26 ноября 1894 года, озаглавленное «Разум или вера?» [Prudento aŭ kredo?]. Из-за этого с апреля 1895 года газета перестала распространяться в Российской империи, где проживало большинство ее подписчиков.
Узнав о случившемся, Толстой обратился с просьбой о помощи к своему «духовному другу» Николаю Страхову, служившему в Комитете иностранной цензуры: «Есть такой доктор Заменгоф, который изобрел эсперантский язык и издавал на нем журнал, кажется в Дрездене [Нюрнберге]. Журнал имел около 600 подписчиков, из которых большинство было в России. Мои друзья, особенно один, Трегубов, большой сторонник Эсперанто, желая поддержать журнал, дал туда одно мое письмо об отношении разума к вере, очень невинное, и еще одну статью о неплатеже податей в Голландии. Это сделало то, что Эсперанто газету запретили впускать в Россию, и Заменгоф, страстно преданный своему изобретению, разорившийся и прежде на это дело, пострадал отчасти от меня. Нельзя ли выхлопотать ему опять разрешение на выписку газеты в Россию. Я обязуюсь ничего не печатать у него и не принимать никакого участия».
Страхов ответил Толстому, что поручил дело председателю Комитета поэту Аполлону Майкову: «Он нашел его возможным и твердо обещал сделать». В итоге запрет сняли, но газета «прекратила свое существование, лишившись ¾ подписчиков».
До 1910 года в эсперантистских журналах были напечатаны сочинения Толстого: «Франсуаза», «Патриотизм и Правительство», «Карма», «Три смерти», «Разум или вера?», «О воспитании». В личной библиотеке писателя хранятся несколько журналов, книг и учебных пособий на эсперанто. В их числе: «Гамлет, принц Датский» Уильяма Шекспира в переводе Заменгофа (Нюрнберг, 1894), «Суд Озириса» Генрика Сенкевича (Варшава, 1908), «Первый винокур, или как чертенок краюшку заслужил» Льва Толстого (Нюрнберг, 1896).
В 1896 году по пьесе «Первый винокур» в Смоленске впервые в мире был показан спектакль на эсперанто. Постановку осуществила группа любителей театрального искусства под руководством А. Закржевского.
Лев Толстой в той или иной мере знал более пятнадцати иностранных языков, включая эсперанто — язык, созданный искусственно к 1887 году. Эсперанто должен был служить универсальным международным языком.
Знакомство писателя с этим языком состоялось в 1889 году. Тогда петербургский эсперантист [человек, который говорит на эсперанто или иначе использует этот язык] Владимир Майнов прислал в Ясную Поляну учебник международного языка.
Писатель прочел учебник и написал в ответном письме: «<...> считаю дело это — усвоение европейцами одного языка — делом первой важности, и потому очень благодарю вас за присылку и буду по мере сил стараться распространять этот язык; и, главное, убеждение в его необходимости». Среди близких Толстого эсперантистами были его друг и сподвижник Владимир Чертков, а также пианист и композитор Сергей Танеев.
Толстой не был лично знаком с создателем искусственного языка Людвигом Заменгофом и не состоял с ним в переписке, но волею судьбы сыграл определенную роль в распространении эсперанто в Российской империи и за рубежом. Сближаясь с Толстым, эсперантисты «могли навредить своему движению, поскольку с 1882 года Министерство внутренних дел установило за графом "негласное наблюдение"». Однако поддержка всемирно известного писателя оказалась для них важнее.
Высказывания Толстого и его последователей — сотрудников издательства «Посредник» — о международном языке появились в первом периодическом издании на эсперанто — «Esperantisto», главным редактором которого в то время был сам Заменгоф. В февральском номере за 1895 год было напечатано ранее запрещенное к публикации письмо Толстого от 26 ноября 1894 года, озаглавленное «Разум или вера?» [Prudento aŭ kredo?]. Из-за этого с апреля 1895 года газета перестала распространяться в Российской империи, где проживало большинство ее подписчиков.
Узнав о случившемся, Толстой обратился с просьбой о помощи к своему «духовному другу» Николаю Страхову, служившему в Комитете иностранной цензуры: «Есть такой доктор Заменгоф, который изобрел эсперантский язык и издавал на нем журнал, кажется в Дрездене [Нюрнберге]. Журнал имел около 600 подписчиков, из которых большинство было в России. Мои друзья, особенно один, Трегубов, большой сторонник Эсперанто, желая поддержать журнал, дал туда одно мое письмо об отношении разума к вере, очень невинное, и еще одну статью о неплатеже податей в Голландии. Это сделало то, что Эсперанто газету запретили впускать в Россию, и Заменгоф, страстно преданный своему изобретению, разорившийся и прежде на это дело, пострадал отчасти от меня. Нельзя ли выхлопотать ему опять разрешение на выписку газеты в Россию. Я обязуюсь ничего не печатать у него и не принимать никакого участия».
Страхов ответил Толстому, что поручил дело председателю Комитета поэту Аполлону Майкову: «Он нашел его возможным и твердо обещал сделать». В итоге запрет сняли, но газета «прекратила свое существование, лишившись ¾ подписчиков».
До 1910 года в эсперантистских журналах были напечатаны сочинения Толстого: «Франсуаза», «Патриотизм и Правительство», «Карма», «Три смерти», «Разум или вера?», «О воспитании». В личной библиотеке писателя хранятся несколько журналов, книг и учебных пособий на эсперанто. В их числе: «Гамлет, принц Датский» Уильяма Шекспира в переводе Заменгофа (Нюрнберг, 1894), «Суд Озириса» Генрика Сенкевича (Варшава, 1908), «Первый винокур, или как чертенок краюшку заслужил» Льва Толстого (Нюрнберг, 1896).
В 1896 году по пьесе «Первый винокур» в Смоленске впервые в мире был показан спектакль на эсперанто. Постановку осуществила группа любителей театрального искусства под руководством А. Закржевского.
Знакомство писателя с этим языком состоялось в 1889 году. Тогда петербургский эсперантист [человек, который говорит на эсперанто или иначе использует этот язык] Владимир Майнов прислал в Ясную Поляну учебник международного языка.
Писатель прочел учебник и написал в ответном письме: «<...> считаю дело это — усвоение европейцами одного языка — делом первой важности, и потому очень благодарю вас за присылку и буду по мере сил стараться распространять этот язык; и, главное, убеждение в его необходимости». Среди близких Толстого эсперантистами были его друг и сподвижник Владимир Чертков, а также пианист и композитор Сергей Танеев.
Толстой не был лично знаком с создателем искусственного языка Людвигом Заменгофом и не состоял с ним в переписке, но волею судьбы сыграл определенную роль в распространении эсперанто в Российской империи и за рубежом. Сближаясь с Толстым, эсперантисты «могли навредить своему движению, поскольку с 1882 года Министерство внутренних дел установило за графом "негласное наблюдение"». Однако поддержка всемирно известного писателя оказалась для них важнее.
Высказывания Толстого и его последователей — сотрудников издательства «Посредник» — о международном языке появились в первом периодическом издании на эсперанто — «Esperantisto», главным редактором которого в то время был сам Заменгоф. В февральском номере за 1895 год было напечатано ранее запрещенное к публикации письмо Толстого от 26 ноября 1894 года, озаглавленное «Разум или вера?» [Prudento aŭ kredo?]. Из-за этого с апреля 1895 года газета перестала распространяться в Российской империи, где проживало большинство ее подписчиков.
Узнав о случившемся, Толстой обратился с просьбой о помощи к своему «духовному другу» Николаю Страхову, служившему в Комитете иностранной цензуры: «Есть такой доктор Заменгоф, который изобрел эсперантский язык и издавал на нем журнал, кажется в Дрездене [Нюрнберге]. Журнал имел около 600 подписчиков, из которых большинство было в России. Мои друзья, особенно один, Трегубов, большой сторонник Эсперанто, желая поддержать журнал, дал туда одно мое письмо об отношении разума к вере, очень невинное, и еще одну статью о неплатеже податей в Голландии. Это сделало то, что Эсперанто газету запретили впускать в Россию, и Заменгоф, страстно преданный своему изобретению, разорившийся и прежде на это дело, пострадал отчасти от меня. Нельзя ли выхлопотать ему опять разрешение на выписку газеты в Россию. Я обязуюсь ничего не печатать у него и не принимать никакого участия».
Страхов ответил Толстому, что поручил дело председателю Комитета поэту Аполлону Майкову: «Он нашел его возможным и твердо обещал сделать». В итоге запрет сняли, но газета «прекратила свое существование, лишившись ¾ подписчиков».
До 1910 года в эсперантистских журналах были напечатаны сочинения Толстого: «Франсуаза», «Патриотизм и Правительство», «Карма», «Три смерти», «Разум или вера?», «О воспитании». В личной библиотеке писателя хранятся несколько журналов, книг и учебных пособий на эсперанто. В их числе: «Гамлет, принц Датский» Уильяма Шекспира в переводе Заменгофа (Нюрнберг, 1894), «Суд Озириса» Генрика Сенкевича (Варшава, 1908), «Первый винокур, или как чертенок краюшку заслужил» Льва Толстого (Нюрнберг, 1896).
В 1896 году по пьесе «Первый винокур» в Смоленске впервые в мире был показан спектакль на эсперанто. Постановку осуществила группа любителей театрального искусства под руководством А. Закржевского.
Символ прогресса
Фонограф, подаренный Томасом Эдисоном
Символ прогресса
Фонограф, подаренный
Томасом Эдисоном
Томасом Эдисоном

Благодаря фонографу до наших дней дошли записи голоса Л. Н. Толстого

Благодаря фонографу до наших дней дошли записи голоса Л. Н. Толстого

Благодаря фонографу до наших дней дошли записи голоса Л. Н. Толстого
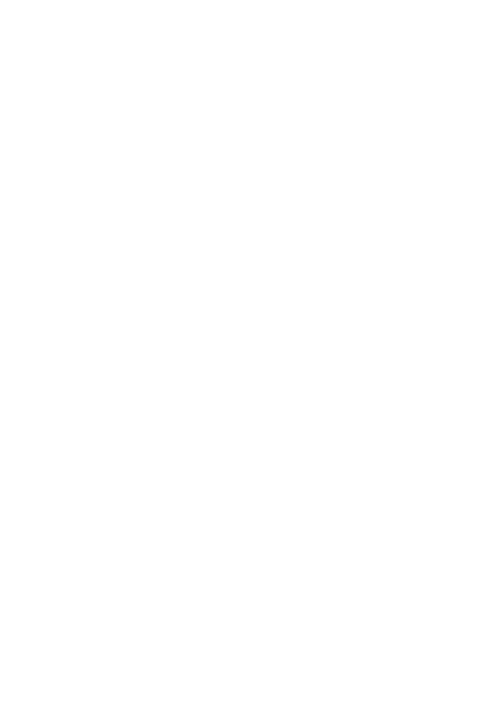
Благодаря фонографу до наших дней дошли записи голоса Льва Толстого
В кабинете Льва Толстого у входа в спальню стоит на подставке небольшой аппарат, накрытый сверху черной крышкой. Иногда посетители принимают его за швейную машинку. Но это фонограф — аппарат для механической записи звука и его воспроизведения, запатентованный известным американским ученым Томасом Алва Эдисоном.
В мае 1907 года Толстого посетил американский корреспондент газеты «New York Times» Стивен Бонсал. Прощаясь с писателем, он вызвался прислать ему из Соединенных Штатов Америки аппарат для диктовки, изобретенный Эдисоном и изготовляемый его фирмой. Заказ подарка Бонсал организовал с помощью своего друга Артура Брисбена, в то время редактора газеты «New York Evening Journal». Томас Эдисон, узнав, что аппарат предназначался для Толстого, отказался от платы, а на фонографе выгравировали надпись «Подарок графу Льву Толстому от Томаса Алва Эдисона».
В январе 1908 года подарок был доставлен. Душан Петрович Маковицкий описал этот момент: «Сегодня получили фонограф от Эдисона. Андрей Львович его составил, и Лев Николаевич уже говорил в него, но воспроизведение слов неясно». Толстой был очень тронут подарком и написал Брисбану: «Милостивый государь, ... считаю своим долгом написать вам и лично, прося принять мою глубокую благодарность за ваше внимание и передать такую же благодарность г-ну Эдисону за его подарок. Я получил фонограф и, пользуясь им, буду всегда вспоминать вас и г-на Эдисона. Преданный вам Лев Толстой». Писатель «стал охотно диктовать в аппарат краткие изречения и письма». Кроме того, в фонограф были надиктованы начало статьи «Не могу молчать», притча «Несчастный человек», рассказ «Сила детства», сказка «Волк». Есть записи на французском, немецком и английском языках.
22 июля 1908 года Эдисон обратился ко Льву Николаевичу с просьбой прочесть в фонограф «краткое обращение к народам всего мира, в котором была бы высказана какая-нибудь идея, двигающая человечество вперед в моральном и социальном отношении». Писатель согласился на предложение Эдисона. «Л. Н. за несколько дней до приезда эдисоновских людей волновался и сегодня упражнялся, особенно в английском тексте. На французский язык сам себя переводил и написал. По-русски и французски хорошо наговорил. По-английски из текста „Царства божия" нехорошо вышло, запинался на двух словах. Завтра снова будет говорить», — записал Маковицкий 23 декабря 1908 года.
До наших дней дошло около сорока фонографических записей голоса Льва Толстого. Записи, сделанные на восковых валиках старинного аппарата более ста лет назад, недостаточно отчетливы, но сквозь шумы мы слышим не только слова, но и интонации голоса Толстого, передающие неподдельные живые чувства.
В мае 1907 года Толстого посетил американский корреспондент газеты «New York Times» Стивен Бонсал. Прощаясь с писателем, он вызвался прислать ему из Соединенных Штатов Америки аппарат для диктовки, изобретенный Эдисоном и изготовляемый его фирмой. Заказ подарка Бонсал организовал с помощью своего друга Артура Брисбена, в то время редактора газеты «New York Evening Journal». Томас Эдисон, узнав, что аппарат предназначался для Толстого, отказался от платы, а на фонографе выгравировали надпись «Подарок графу Льву Толстому от Томаса Алва Эдисона».
В январе 1908 года подарок был доставлен. Душан Петрович Маковицкий описал этот момент: «Сегодня получили фонограф от Эдисона. Андрей Львович его составил, и Лев Николаевич уже говорил в него, но воспроизведение слов неясно». Толстой был очень тронут подарком и написал Брисбану: «Милостивый государь, ... считаю своим долгом написать вам и лично, прося принять мою глубокую благодарность за ваше внимание и передать такую же благодарность г-ну Эдисону за его подарок. Я получил фонограф и, пользуясь им, буду всегда вспоминать вас и г-на Эдисона. Преданный вам Лев Толстой». Писатель «стал охотно диктовать в аппарат краткие изречения и письма». Кроме того, в фонограф были надиктованы начало статьи «Не могу молчать», притча «Несчастный человек», рассказ «Сила детства», сказка «Волк». Есть записи на французском, немецком и английском языках.
22 июля 1908 года Эдисон обратился ко Льву Николаевичу с просьбой прочесть в фонограф «краткое обращение к народам всего мира, в котором была бы высказана какая-нибудь идея, двигающая человечество вперед в моральном и социальном отношении». Писатель согласился на предложение Эдисона. «Л. Н. за несколько дней до приезда эдисоновских людей волновался и сегодня упражнялся, особенно в английском тексте. На французский язык сам себя переводил и написал. По-русски и французски хорошо наговорил. По-английски из текста „Царства божия" нехорошо вышло, запинался на двух словах. Завтра снова будет говорить», — записал Маковицкий 23 декабря 1908 года.
До наших дней дошло около сорока фонографических записей голоса Льва Толстого. Записи, сделанные на восковых валиках старинного аппарата более ста лет назад, недостаточно отчетливы, но сквозь шумы мы слышим не только слова, но и интонации голоса Толстого, передающие неподдельные живые чувства.
В кабинете Льва Толстого у входа в спальню стоит на подставке небольшой аппарат, накрытый сверху черной крышкой. Иногда посетители принимают его за швейную машинку. Но это фонограф — аппарат для механической записи звука и его воспроизведения, запатентованный известным американским ученым Томасом Алва Эдисоном.
В мае 1907 года Толстого посетил американский корреспондент газеты «New York Times» Стивен Бонсал. Прощаясь с писателем, он вызвался прислать ему из Соединенных Штатов Америки аппарат для диктовки, изобретенный Эдисоном и изготовляемый его фирмой. Заказ подарка Бонсал организовал с помощью своего друга Артура Брисбена, в то время редактора газеты «New York Evening Journal». Томас Эдисон, узнав, что аппарат предназначался для Толстого, отказался от платы, а на фонографе выгравировали надпись «Подарок графу Льву Толстому от Томаса Алва Эдисона».
В январе 1908 года подарок был доставлен. Душан Петрович Маковицкий описал этот момент: «Сегодня получили фонограф от Эдисона. Андрей Львович его составил, и Лев Николаевич уже говорил в него, но воспроизведение слов неясно». Толстой был очень тронут подарком и написал Брисбану: «Милостивый государь, ... считаю своим долгом написать вам и лично, прося принять мою глубокую благодарность за ваше внимание и передать такую же благодарность г-ну Эдисону за его подарок. Я получил фонограф и, пользуясь им, буду всегда вспоминать вас и г-на Эдисона. Преданный вам Лев Толстой». Писатель «стал охотно диктовать в аппарат краткие изречения и письма». Кроме того, в фонограф были надиктованы начало статьи «Не могу молчать», притча «Несчастный человек», рассказ «Сила детства», сказка «Волк». Есть записи на французском, немецком и английском языках.
22 июля 1908 года Эдисон обратился ко Льву Николаевичу с просьбой прочесть в фонограф «краткое обращение к народам всего мира, в котором была бы высказана какая-нибудь идея, двигающая человечество вперед в моральном и социальном отношении». Писатель согласился на предложение Эдисона. «Л. Н. за несколько дней до приезда эдисоновских людей волновался и сегодня упражнялся, особенно в английском тексте. На французский язык сам себя переводил и написал. По-русски и французски хорошо наговорил. По-английски из текста „Царства божия" нехорошо вышло, запинался на двух словах. Завтра снова будет говорить», — записал Маковицкий 23 декабря 1908 года.
До наших дней дошло около сорока фонографических записей голоса Льва Толстого. Записи, сделанные на восковых валиках старинного аппарата более ста лет назад, недостаточно отчетливы, но сквозь шумы мы слышим не только слова, но и интонации голоса Толстого, передающие неподдельные живые чувства.
В мае 1907 года Толстого посетил американский корреспондент газеты «New York Times» Стивен Бонсал. Прощаясь с писателем, он вызвался прислать ему из Соединенных Штатов Америки аппарат для диктовки, изобретенный Эдисоном и изготовляемый его фирмой. Заказ подарка Бонсал организовал с помощью своего друга Артура Брисбена, в то время редактора газеты «New York Evening Journal». Томас Эдисон, узнав, что аппарат предназначался для Толстого, отказался от платы, а на фонографе выгравировали надпись «Подарок графу Льву Толстому от Томаса Алва Эдисона».
В январе 1908 года подарок был доставлен. Душан Петрович Маковицкий описал этот момент: «Сегодня получили фонограф от Эдисона. Андрей Львович его составил, и Лев Николаевич уже говорил в него, но воспроизведение слов неясно». Толстой был очень тронут подарком и написал Брисбану: «Милостивый государь, ... считаю своим долгом написать вам и лично, прося принять мою глубокую благодарность за ваше внимание и передать такую же благодарность г-ну Эдисону за его подарок. Я получил фонограф и, пользуясь им, буду всегда вспоминать вас и г-на Эдисона. Преданный вам Лев Толстой». Писатель «стал охотно диктовать в аппарат краткие изречения и письма». Кроме того, в фонограф были надиктованы начало статьи «Не могу молчать», притча «Несчастный человек», рассказ «Сила детства», сказка «Волк». Есть записи на французском, немецком и английском языках.
22 июля 1908 года Эдисон обратился ко Льву Николаевичу с просьбой прочесть в фонограф «краткое обращение к народам всего мира, в котором была бы высказана какая-нибудь идея, двигающая человечество вперед в моральном и социальном отношении». Писатель согласился на предложение Эдисона. «Л. Н. за несколько дней до приезда эдисоновских людей волновался и сегодня упражнялся, особенно в английском тексте. На французский язык сам себя переводил и написал. По-русски и французски хорошо наговорил. По-английски из текста „Царства божия" нехорошо вышло, запинался на двух словах. Завтра снова будет говорить», — записал Маковицкий 23 декабря 1908 года.
До наших дней дошло около сорока фонографических записей голоса Льва Толстого. Записи, сделанные на восковых валиках старинного аппарата более ста лет назад, недостаточно отчетливы, но сквозь шумы мы слышим не только слова, но и интонации голоса Толстого, передающие неподдельные живые чувства.
Символ милосердия
Вяз напротив Дома Толстого
Символ милосердия
Вяз напротив Дома Толстого

Вяз, посаженный в 2017 году на месте дерева бедных у Дома Толстого

Вяз, посаженный в 2017 году на месте дерева бедных у Дома Толстого

Вяз, посаженный в 2017 году на месте дерева бедных
у Дома Толстого
у Дома Толстого
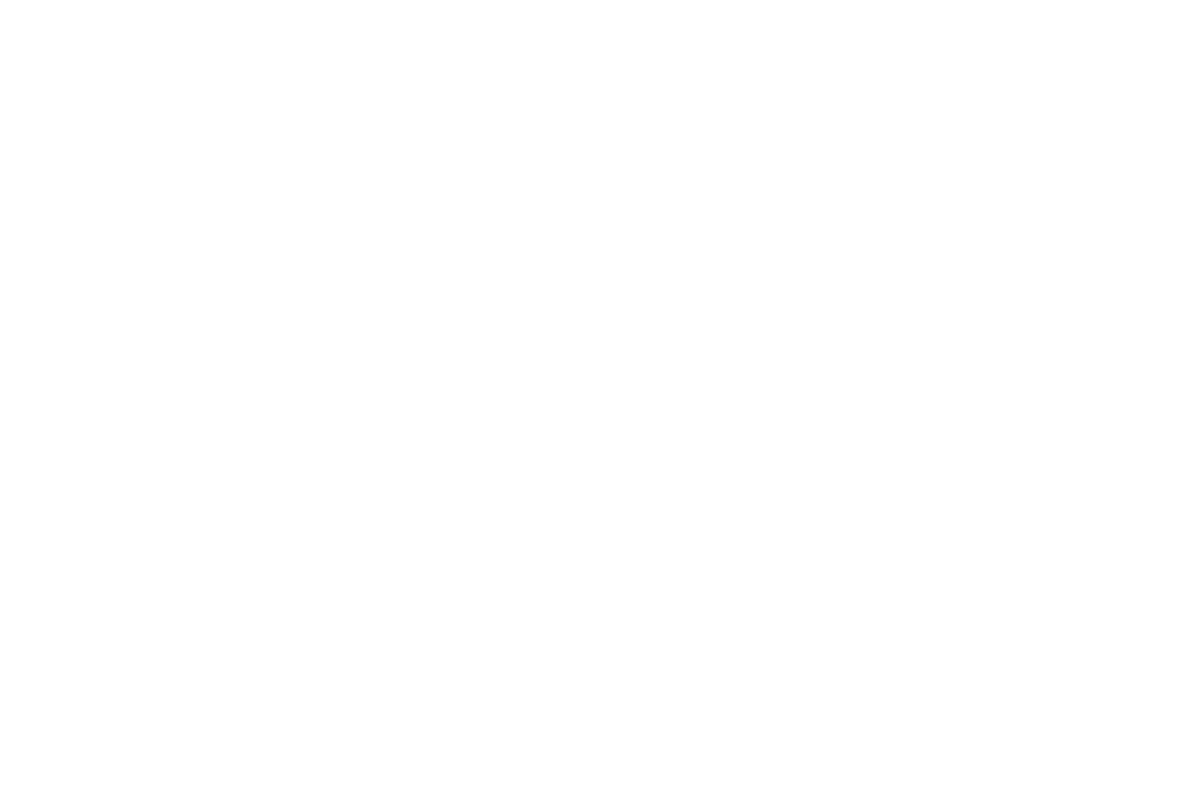
Вяз, посаженный в 2017 году на месте дерева бедных у Дома Толстого
Дерево бедных — одно из самых знаменитых деревьев яснополянской усадьбы, этот вяз долгое время рос напротив Дома Толстого. На скамейках под вязом Лев Николаевич беседовал с Максимом Горьким, Ильей Репиным и другими замечательными людьми своего времени. Здесь же по утрам писателя ждали различные просители: странники, крестьяне, нуждающиеся люди. Отсюда вяз получил название «дерево бедных». На этом же вязе висел колокол, который собирал членов семьи и гостей в доме. «В пять звонят в колокол, который висит на сломанном суку старого вяза против дома, мы бежим мыть руки и собираемся к обеду...», — вспоминал сын писателя Илья Львович Толстой.
Со временем дерево разрослось, стало могучим и развесистым, но дуплистым и кривым, а колокол наполовину врос в древесину ствола вяза. В середине 1920-х годов дупло с северной стороны ствола зацементировали, чтобы вяз не погиб. Под тяжестью кроны вяз все больше наклонялся в сторону дома и террасы. В 1928–29 годах под ним поставили деревянную подпорку, а в 1955 году пришлось отрезать большую ветвь, почти 40 сантиметров в диаметре. По ней удалось определить возраст дерева — в 1955 году вязу было около 120 лет.
Летом 1965 года сотрудники музея вскрыли зацементированное дупло. Тогда выяснилось, что из-за пломбы, накопления влаги и отсутствия воздуха часть древесины превратилась во влажную труху. В конце 1960-х годов вяз снизил прирост, а весной 1970 года листья на нем уже не распустились. «Дерево бедных» пережило Льва Толстого на 60 лет.
20 ноября 2017 года, в День памяти Льва Толстого, ровно на том самом месте, где рос старый вяз, сотрудники музея посадили новое маленькое деревце. У него такая же раздвоенная верхушка, как у старого вяза, ветви так же направлены на Дом писателя. Возможно, скоро одно из центральных мест Ясной Поляны снова станет такким же, каким было при писателе.
Со временем дерево разрослось, стало могучим и развесистым, но дуплистым и кривым, а колокол наполовину врос в древесину ствола вяза. В середине 1920-х годов дупло с северной стороны ствола зацементировали, чтобы вяз не погиб. Под тяжестью кроны вяз все больше наклонялся в сторону дома и террасы. В 1928–29 годах под ним поставили деревянную подпорку, а в 1955 году пришлось отрезать большую ветвь, почти 40 сантиметров в диаметре. По ней удалось определить возраст дерева — в 1955 году вязу было около 120 лет.
Летом 1965 года сотрудники музея вскрыли зацементированное дупло. Тогда выяснилось, что из-за пломбы, накопления влаги и отсутствия воздуха часть древесины превратилась во влажную труху. В конце 1960-х годов вяз снизил прирост, а весной 1970 года листья на нем уже не распустились. «Дерево бедных» пережило Льва Толстого на 60 лет.
20 ноября 2017 года, в День памяти Льва Толстого, ровно на том самом месте, где рос старый вяз, сотрудники музея посадили новое маленькое деревце. У него такая же раздвоенная верхушка, как у старого вяза, ветви так же направлены на Дом писателя. Возможно, скоро одно из центральных мест Ясной Поляны снова станет такким же, каким было при писателе.
Дерево бедных — одно из самых знаменитых деревьев яснополянской усадьбы, этот вяз долгое время рос напротив Дома Толстого. На скамейках под вязом Лев Николаевич беседовал с Максимом Горьким, Ильей Репиным и другими замечательными людьми своего времени. Здесь же по утрам писателя ждали различные просители: странники, крестьяне, нуждающиеся люди. Отсюда вяз получил название «дерево бедных». На этом же вязе висел колокол, который собирал членов семьи и гостей в доме. «В пять звонят в колокол, который висит на сломанном суку старого вяза против дома, мы бежим мыть руки и собираемся к обеду...», — вспоминал сын писателя Илья Львович Толстой.
Со временем дерево разрослось, стало могучим и развесистым, но дуплистым и кривым, а колокол наполовину врос в древесину ствола вяза. В середине 1920-х годов дупло с северной стороны ствола зацементировали, чтобы вяз не погиб. Под тяжестью кроны вяз все больше наклонялся в сторону дома и террасы. В 1928–29 годах под ним поставили деревянную подпорку, а в 1955 году пришлось отрезать большую ветвь, почти 40 сантиметров в диаметре. По ней удалось определить возраст дерева — в 1955 году вязу было около 120 лет.
Летом 1965 года сотрудники музея вскрыли зацементированное дупло. Тогда выяснилось, что из-за пломбы, накопления влаги и отсутствия воздуха часть древесины превратилась во влажную труху. В конце 1960-х годов вяз снизил прирост, а весной 1970 года листья на нем уже не распустились. «Дерево бедных» пережило Льва Толстого на 60 лет.
20 ноября 2017 года, в День памяти Льва Толстого, ровно на том самом месте, где рос старый вяз, сотрудники музея посадили новое маленькое деревце. У него такая же раздвоенная верхушка, как у старого вяза, ветви так же направлены на Дом писателя. Возможно, скоро одно из центральных мест Ясной Поляны снова станет такким же, каким было при писателе.
Со временем дерево разрослось, стало могучим и развесистым, но дуплистым и кривым, а колокол наполовину врос в древесину ствола вяза. В середине 1920-х годов дупло с северной стороны ствола зацементировали, чтобы вяз не погиб. Под тяжестью кроны вяз все больше наклонялся в сторону дома и террасы. В 1928–29 годах под ним поставили деревянную подпорку, а в 1955 году пришлось отрезать большую ветвь, почти 40 сантиметров в диаметре. По ней удалось определить возраст дерева — в 1955 году вязу было около 120 лет.
Летом 1965 года сотрудники музея вскрыли зацементированное дупло. Тогда выяснилось, что из-за пломбы, накопления влаги и отсутствия воздуха часть древесины превратилась во влажную труху. В конце 1960-х годов вяз снизил прирост, а весной 1970 года листья на нем уже не распустились. «Дерево бедных» пережило Льва Толстого на 60 лет.
20 ноября 2017 года, в День памяти Льва Толстого, ровно на том самом месте, где рос старый вяз, сотрудники музея посадили новое маленькое деревце. У него такая же раздвоенная верхушка, как у старого вяза, ветви так же направлены на Дом писателя. Возможно, скоро одно из центральных мест Ясной Поляны снова станет такким же, каким было при писателе.
Над проектом «Символы Ясной Поляны» работали:
Галина Федосеева — методист отдела передвижных выставок
Надежда Переверзева — хранитель Дома Л. Н. Толстого
Татьяна Комарова — ведущий научный сотрудник музея
Игорь Карачевцев — старший научный сотрудник отдела научно-исследовательской работы
Алла Куракова — заведующая отделом комплектования фондов
Марина Банникова, Александра Богомолова, Елена Алехина, Ирина Афонина
— сотрудники отдела по работе с прессой
Надежда Переверзева — хранитель Дома Л. Н. Толстого
Татьяна Комарова — ведущий научный сотрудник музея
Игорь Карачевцев — старший научный сотрудник отдела научно-исследовательской работы
Алла Куракова — заведующая отделом комплектования фондов
Марина Банникова, Александра Богомолова, Елена Алехина, Ирина Афонина
— сотрудники отдела по работе с прессой
Над проектом «Символы Ясной Поляны» работали:
Галина Федосеева — методист отдела передвижных выставок
Надежда Переверзева — хранитель Дома Л. Н. Толстого
Татьяна Комарова — ведущий научный сотрудник музея
Игорь Карачевцев — старший научный сотрудник отдела научно-исследовательской работы
Алла Куракова — заведующая отделом комплектования фондов
Марина Банникова, Александра Богомолова, Елена Алехина, Ирина Афонина — сотрудники отдела по работе с прессой
Надежда Переверзева — хранитель Дома Л. Н. Толстого
Татьяна Комарова — ведущий научный сотрудник музея
Игорь Карачевцев — старший научный сотрудник отдела научно-исследовательской работы
Алла Куракова — заведующая отделом комплектования фондов
Марина Банникова, Александра Богомолова, Елена Алехина, Ирина Афонина — сотрудники отдела по работе с прессой